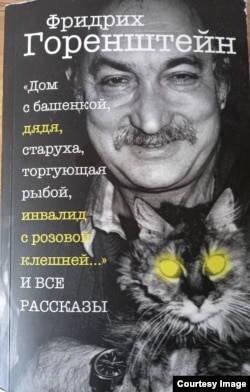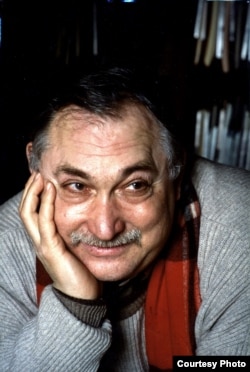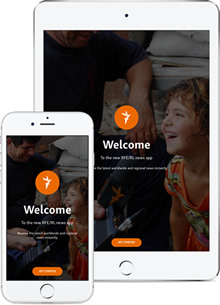Подходит к концу театральный фестиваль в Зальцбурге, основанный более ста лет назад выдающимся режиссером Максом Райнхардтом. Фестиваль славится оперными постановками, среди ярких премьер нынешнего сезона – "Юлий Цезарь в Египте" Генделя. Дмитрий Черняков по своему обыкновению осовременил сюжет и перенес Цезаря, Клеопатру, Корнелию и Секста в бетонный бункер. Спектакль начинается с сигнала воздушной тревоги, так что простодушные зрители вскакивают со своих мест, решив, что публике в самом деле угрожает опасность.
Несмотря на высокий постановочный и музыкальный уровень спектаклей Зальцбургский фестиваль уже несколько лет окружен разнообразными судебными процессами и скандалами. Одним из самых громких стало внезапное увольнение в конце 2024 года Марины Давыдовой, театрального критика и драматурга, которая 2 года была программным директором драматического направления фестиваля. Я встретил Марину в театре на спектакле французского режиссера Жюльена Госслана и попросил ее рассказать, что случилось.
– В прошлом году вы подготовили интереснейшую программу; в частности, пригласили в Зальцбург выдающийся спектакль Кристиана Люпы "Волшебная гора". Потом, как гром среди ясного неба, появилось сообщение о том, что вы уволены. И вот, 2025 год, мы с вами опять встречаемся в Зальцбурге на спектакле, который вы пригласили, и программа, вами подготовленная, осталась в неприкосновенности. Вся эта история сбивает с толку. Объясните, пожалуйста, что произошло.
Моя задача заключалась в том, чтобы скромно стоять в тени интенданта
– Да, объяснить это действительно не так-то просто. Но полагаю, именно программа прошлого года, которая вам так понравилась, и новая программа, которую я готовила для 2025 года, и стали причиной внезапного увольнения. Во всяком случае, в официальную причину, заявленную фестивалем, не верит в Австрии, кажется, ни один человек. Делать заметную, вызывающую споры, а значит интересную программу, давать многочисленные интервью и рассказывать о своем понимании театра, как выяснилось, не входило в мои задачи. Моя задача заключалась в том, чтобы скромно стоять в тени интенданта.
Дело в том, что Зальцбургский фестиваль причудливо устроен. Есть оперная часть, есть обширная концертная часть, и есть часть драматическая. Интендант фестиваля – пианист, он прекрасно разбирается в музыке и сам программирует именно оперную часть. Драматическую же часть, у которой традиционно есть отдельный программный директор, он, как выяснилось, воспринимает как конкурентную. Ему совершенно не нужно, чтобы драма стала internationally visible и вообще привлекала к себе внимание. И самое главное – ему не нужен рядом человек, оттягивающий на себя внимание. Нужен малозаметный исполнительный чиновник, на которого я, видимо, мало похожа. При этом в руках интенданта находятся все материальные и людские ресурсы фестиваля, логистика площадок, возможность отменить любое твое художественное решение. Иными словами, ты несешь всю ответственность за программу, но находишься в абсолютной зависимости от человека, который почему-то ревнует свою оперную часть фестиваля к твоей, драматической. Это очевидный абсурд в целом и это психологическая пытка для главы драматического отдела, в частности.
Почему, несмотря на все случившееся, Зальцбургский фестиваль в 2025 году все же сохранил мою программу? Дело в том, что увольнение было совершенно диким, внезапным и вызвавшим бурную общественную реакцию. Оно случилось за пять дней до того, как мы должны были объявлять программу на пресс-конференции. К тому моменту был уже напечатан буклет фестиваля, и из него уже ничего невозможно было "вырубить топором". К тому же Зальцбургский фестиваль готовится заранее, а это значит, что к моменту объявления программы в стадии обсуждения находятся контракты с крупными европейскими театрами, с известными режиссерами, с выдающимися артистами. Внезапная отмена любого из событий грозила бы скандалом со стороны партнеров. Да и чем заменять отмененное? Поэтому программа осталась в том виде, в каком она была мною сформирована. Другой вопрос, что, если бы не усилия интенданта, она была бы обширнее. Тем не менее я горжусь каждым спектаклем, который мне удалось отстоять в программе этого года. Замечу в скобках, что завершившая драматическую часть фестиваля "Метель" Сорокина в постановке Кирилла Серебренникова занимает сейчас первую строчку в рейтинге немецкоязычных критиков.
К слову, в этот рейтинг на сайте Nachtkritik попали на прошлой неделе все три премьерных спектакля моей программы – кроме "Метели", это "Последние дни человечества" (Die letzten Tage der Menschheit) чешского режиссера Дюшана Парижека (Dušan David Pařízek) и грандиозный Le Passé Жюльена Госслана (Julien Gosselin). Три из трех – это, в общем-то, лучший результат из возможных.
– Спектакль Госслана поставлен по пьесе "Екатерина Ивановна" и другим текстам Леонида Андреева. Конечно, это совсем не похоже на мхатовские трактовки, и можно представить, что бы сказал Немирович-Данченко, если бы это увидел. Госслан превращает спектакль в фильм, который идет в прямом эфире. Этот прием не он придумал, но он довел его до совершенства.
Госслан исследует не просто проблему пола, но то, как демоны, живущие в нас, выходят наружу
– Спектакль не случайно называется Le Passé, потому что главный интерпретационный тренд современного театра, на протяжении последних трех десятилетий, это пресловутое "осовременивание". Режиссеры помещают героев пьес Ибсена, Чехова, Шекспира в современный мир, надевают на них современные наряды, наделяют их комплексом чувствования человека XXI века. И вдруг Госслан – и это действительно революционно – делает обратный ход. Он говорит: а я хочу всмотреться в способы чувствования людей минувшей эпохи, в то, в каком интерьере они жили, что носили, какие жесты у них были, я буду всматриваться в минувшую жизнь и в ней увижу предвестие сегодняшнего дня, но я не буду ничего специально осовременивать. В спектакле мощно передан дух декадентской эпохи, в котором происходит действие пьесы. Поразительно, что Госслан вообще обращается к произведениям Леонида Андреева, невероятно популярного в начале прошлого века (он был куда известнее Чехова, а его произведения были переведены даже на японский), но через сто лет уже мало известного за пределами России. По словам самого режиссера, этого автора открыл ему знаменитый переводчик Андре Маркович. Андреев был автор очень плодовитый и не чуждый эзотерики. Кстати, его сын Даниил Андреев – автор знаменитой "Розы мира", одного из самых удивительных эзотерических произведений европейской литературы XX века. Но в лежащей в основе спектакля пьесе Андреева никакой эзотерикой и не пахнет. Она про другое. "Пришла проблема пола, румяная фефёла, и ржёт навеселе", – писал Саша Черный. Эта "проблема пола" как раз затрагивается в пьесе. Она отсылает нас к "Лулу" Ведекинда, к теме роковой и соблазнительной женщины... Что же делает Госслан? Он берет эту пьесу и помещает ее в контекст других произведений Андреева и исследует в результате не просто проблему пола, но то, как демоны, живущие в нас, вдруг выходят наружу, как жизнь подчинена этим удивительным сущностям, как сложно ими управлять. В трактате "Воскресение мертвых", текст которого появляется ближе к финалу этого спектакля, согласно Андрееву, все умерли и просветлились в каких-то других измерениях. Госслан вставляет в спектакль этот текст назадолго до финала, который в его постановке превращается то ли в оргию, то ли в сеанс экзорцизма, и показывает, что на самом деле после того, как мир перезагрузился и просветлился, ничего не изменилось, и демоны продолжают править им.
Надо понимать, что обычно программа Зальцбурга состоит из премьер, а любая премьера – это всегда кот в мешке. Но в данном случае я заранее знала, что именно я хочу показать зальцбургской публике. И тут особая история, потому что несколько лет назад Госслан поставил этот спектакль в Париже в копродукции со знаменитым Festival d'Automne. Он тогда был руководителем небольшой компании, и они просто не смогли играть этот спектакль дальше без поддержки парижского фестиваля. Спектакль умер, но Госслан стал интендантом крупнейшего французского театра "Одеон", и тогда я предложила: "А давай мы в копродукции с Зальцбургским фестивалем просто воскресим твой спектакль, и премьера этого revival состоится в Зальцбурге, а потом войдет в репертуар "Одеона".
В театральном смысле Le Passé – уникальное произведение. Таких вообще мало в мире. А для немецкоязычной зоне этот спектакль – суггестивный, медитативный, гипнотический, сложносочиненный, то копающийся в самых глубинах человеческой психофизики – совсем уж непривычен. Как и театр Кристиана Люпы, скажем. Это для нас Люпа – великий режиссер, маг, гуру, а для Германии и Австрии это какая-то другая планета, и Госслан тут тоже пришелец из космоса. Уверена, что ничего похожего на него или на спектакль Люпы в ближайшее время в Зальцбурге уже не будет.
– Госслан сейчас поставил новый спектакль по текстам Маргерит Дюрас, он еще сложнее и идет 10 часов, он будет показан в "Одеоне". Мне, как синефилу, нравится, что его спектакли насыщены цитатами из фильмов. В частности, Екатерина Ивановна — копия Изабель Аджани из фильма Жулавского "Одержимая бесом", есть рассказчица из фильма Пазолини "Сало", много таких цитат и намеков, которые киноман с удовольствием расшифрует.
— В этом он как раз не уникален, потому что такие отсылки к кинематографу довольно часто появляются в современном театре.
— У Варликовского это постоянно.
— У Варликовского сколько угодно. Или у Чернякова. В его "Дон Жуане", например, есть прямые отсылки к "Последнему танго в Париже"... Но при всей кинематографичности то, что делает Госслан – это насыщенный, даже иногда перенасыщенный театральный текст, этот спектакль кинематографичен и одновременно сверхтеатрален.
— Попрошу вас рассказать о спектакле, который я не видел, а вы уже упомянули — "Метель" Кирилла Серебренникова. Я люблю эту повесть Сорокина, которая положила начало циклу книг про доктора Гарина.
Серебренников выбирает именно "Метель", и ставит спектакль очень красивый, очень музыкальный
— Серебренников впервые обращается к творчеству Сорокина. Причём эта встреча, если логически рассуждать, должна была бы раньше случиться, потому что на вопрос, о чём вы пишете, Сорокин ответил как-то: "Я исследую метафизику русской жизни". Иронически, конечно, ответил. Но абсолютно тем же самым часто занимается и Серебренников. У него есть спектакли, в которых отчетливо звучат сорокинские мотивы. В "Поручике Киже", например, когда император Павел путешествует по заснеженной Руси и просит показать ему настоящую страну, а не лубочную, не приукрашенную, из заиндевелых далей на него вдруг начинают надвигаться какие-то чудища – такой морок сорокинский буквально. Но при этом никогда прежде Серебренников Сорокина на ставил. И вот в Германии происходит эта встреча. Важно, что Серебренников выбирает не какую-то из дистопий Сорокина, не "День опричника", например. Казалось бы, ему такой социальный бурлеск больше подошел бы. Но нет, он выбирает именно "Метель", и ставит спектакль очень красивый, даже избыточно красивый, очень музыкальный. Социальная ирония сосуществует тут с метафизикой – и это не только про "метафизику русской жизни", это путешествие как таковое, жизненная дорога конкретного героя и каждого из нас.
К тому же тут еще и немецкие артисты встречаются с российскими. Гарина играет звезда немецкой сцены Аугуст Диль (он звезда и для России, потому что играл Воланда в "Мастере Маргарите"). А извозчика Перхушу – великолепный Филипп Авдеев. Так что спектакль Кирилла – еще и попытка людей разных культур понять друг друга, и удивительное сосуществование культурных референсов, как российских, так и немецких – от "Прекрасной мельничихи" до пушкинской "Метели". Уровень актёрской игры, визуальной, пластической, музыкальной составляющих тут невероятно высоки. Это то, чего невозможно не заметить. И публика встречает эту "Метель" стоячими овациями.
– Марина, вы не только театральный критик, но драматург и режиссер, я в Вене видел ваш спектакль "Музей неучтённых голосов", и сейчас в Зальцбурге прошла читка новой пьесы. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Герои ищут объективную правду, и всякий раз эта "правда" поворачивается к ним какой-то новой гранью
– Пьеса называется Land of No Return и написана по заказу одного из крупнейших театров Германии, мюнхенского Резиденцтеатра, ему же принадлежит и право ее первой постановки. Текст переведён на французский, румынский, английский. В Зальцбурге же была его первая читка по-немецки. Текст охватывает (при том, что это не очень длинная пьеса) огромный период, несколько десятилетий. Его действие начинается в конце 1980-х. В нем несколько мест действия – Баку, Москва, Берлин. В нем есть эпический размах и при этом он очень лирический. Это не моя биография, это совершеннейший драматургический конструкт, но он пронизан очень личными токами. Видимо, это ощущается, когда её читаешь. Во всяком случае, я физически ощущала эмоциональную вовлеченность аудитории во время читки. И сама была эмоционально подключена к этому тексту, когда его писала, у меня до сих пор его герои стоят перед глазами – они для меня живые. Я чаще всего пишу историософские произведения, и эта историософия в пьесе, конечно, тоже присутствует, там история ходит кругами, спускаясь к ледяному озеру Коцит. Но это еще и попытка срифмовать сложные историософские вещи со сложностью человеческих отношений. Переплетения судеб героев рифмуются со запутанными историческими катаклизмами, герои ищут точку опоры, объективную правду, и всякий раз эта "правда" поворачивается к ним какой-то новой гранью. Тебе кажется, что ты уже обрёл истину и ответы на вопросы, а тут новый поворот, и реальность по-новому видится.
– Что же будет с той частью Зальцбургского фестиваля, за которую вы отвечали до недавнего времени? Ваша должность упразднена?
– Этим вопросом задаётся вся австрийская пресса, потому что с момента моего внезапного и безумного увольнения прошло уже чуть меньше года, а должность, которую я занимала, вакантна. Интендант фестиваля обладает всеми компетенциями, чтобы программировать оперу, но современный театр, мягко говоря, не его епархия. Его спрашивают, что же он будет теперь делать. И он как-то уклончиво на это отвечает. Точнее уже было много вариантов ответа. Сначала: я сам буду делать драматическую программу. Потом: нет-нет, я только один раз все сделаю в 2026 году, а с 2027 мы, может быть, вообще упраздним эту часть программы, потому что у нас идет реконструкция. Потом: ну, что вы, конечно, мы не ничего не упраздним, может быть, мы будем каждый год кого-то нового приглашать… В общем, это всё в подвешенном состоянии.
– Давайте назовём под конец нашего разговора его имя, а то у нас получается, как у Путина с Навальным. Его зовут Маркус Хинтерхойзер.
– Да, естественно, мне кажется, очень важно назвать его. Для оперной части фестиваля Маркус Хинтерхойзер сделал много важного и даже выдающегося, но для фестиваля в целом его психологические особенности давно стали очень серьезной проблемой. И все люди в Зальцбурге, хотя бы чуть-чуть вовлеченные в дела фестиваля, эту проблему прекрасно осознают.